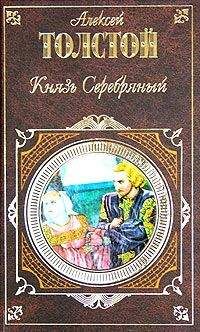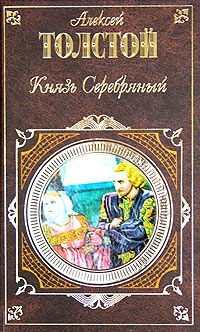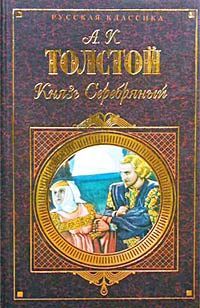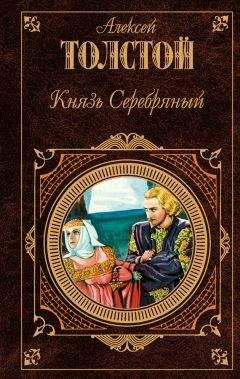Анатолий Бергер - Горесть неизреченная [сборник]
Дома хорошо. Но вижу, вижу тесноту нашей комнаты, где втроём — папа, мама, я, а дедушка с бабушкой в другой комнате, но у них своё житьё, хоть и связанное с нашим не всегда доброй ниткой. И соседи — одна комната — Павел Иванович и Анна Сергеевна — люди совсем чуждого мира, хоть говорим на одном языке, живём в одном доме, в одной квартире. Люди из другой комнаты — и это тоже навсегда.
Комната дедушки и бабушки — большая, широкая, 31 метр (наша — 26 метров). У дедушки с бабушкой посредине комнаты круглый, большой, как карусель, стол, у окна швейная машинка «Зингер», бабушка — отличная портниха, к ней ходят заказчицы, важные, по моему детскому разумению, дамы, стоят перед трюмо, вглядываются в себя, клонятся туда-сюда, бабушка булавками пришпиливает их к неровному, не готовому ещё платью, кружится по-портняжьи около с булавками в губах. Слышу порой обрывки разговора для меня непонятного. Азбука чужого ремесла — всегда чужой язык, мне тогда зачем он? Бабушка крепкая, кряжистая, умелая, работящая. С шести утра порой слышится жёсткий шелест её швейной машинки, чьё название так певуче, а голос так отрывист, нетерпелив, твёрд. Дедушка — высокий, тонкий, седой давно уже не работает, а когда-то был счетоводом, но славился, по словам мамы, не мастерством, а честностью.
Дом вела бабушка, да и содержала их семью, а дедушка ходил в булочную, но большей частью слонялся из комнаты в комнату, к нам пробирался без стука, чем вызывал скрытое недовольство и папы и мамы. Почти всё время моей жизни на Большой Московской с дедушкой и бабушкой жил их младший сын Евсей, но все называли его Геся, хотя это женское уменьшительное еврейское имя. Потом он привёл жену, потом появился сын.
С той поры, как живу — знаю — два человека любят меня на земле, любят неотпускающей любовью, те двое, из чьей плоти и крови я слеплен, те двое, чья встреча высекла мой огонёк из сумрака нежизни. И как страшно сознавать сейчас, что говорить о них нужно в прошедшем времени, что их огоньки ушли, догорев, в тот самый сумрак, из которого когда-то они высветили меня, и моей горькой памяти отныне хранить мгновения их жизни, пока и меня не сдует ветер будней.
Папа — среднего роста, силач, в молодости спортсмен, чемпион Урала по прыжкам в длину, бегу, шахматист первой категории, участвовал в первенстве страны. Какие крепкие руки были у него, когда он поднимал меня над землёй, какими крупными казались стёкла его очков, каким широким, раскидистым чудился его лоб. Первые детские воспоминания — мне год, я в кроватке, и он целует, тискает меня, и я смеюсь ему в ответ, мы давно не виделись и радуемся встрече, и чувство этой радости я помню, а больше из тех лет не помню ничего — лет до четырёх-пяти.
Мама — нежная, мягкая, красивая, её улыбка обнимала меня всего, её голос казался сотканным из доброты и ласки, и ещё музыки, потому что она пианистка. Пианино — чёрное, прочное, вздымающееся от пола к стене, как крыло прекрасной птицы. А звуки, сбегающие с чёрно-белых гладких клавиш — они говорят маминым голосом, но что-то совсем иное, о чём-то своём, но и моём, и мамином, и папином, и о том, что за окном небо, летящее в высоте, и крыши соседних домов, смутно поглядывающие на землю.
А моё детство между тем окончилось, трудный возраст подростка крутил и мял мою душу. Учиться становилось всё горше, полюбил я только древнюю историю и чувствовал ещё какое-то притяжение слов и скоро (в 13 лет) стал писать стихи.
Первые почти строки: «Хотел бы я поэтом быть, среди стихов прекрасных жить, и чтоб вокруг меня они всё озаряли, как огни». Но самое первое стихотворение было другое — корявое, длинное, сейчас напрочь не помню. Но помню, что лежал больной в простуде и как-то сами собой, толкаясь и мешая друг другу, выпрастывались слова, первые мои слова, за которыми вслед потом столько ещё слов…
После школы я пытался поступить в Ленинградский университет на исторический факультет. Увы, это не получилось. В университет косяком шли люди из союзных республик и автономий, инвалиды, пришедшие из армии. Я недобрал баллов. Год пропадал, и родители пристроили меня помогать библиотекарше в 321-ю школу, где я учился с третьего по восьмой класс.
Работал я бесплатно. Радовало только то, что школа эта была в прошлом первой гимназией Петербурга. Там были чудесные книги — большие, как церкви, тома Ивана Забелина «Домашний быт русских царей», «Домашний быт русских цариц». Там я впервые прочёл Иннокентия Анненского, прижизненные издания его стихов, поразивших меня пронзительной подлинностью переживаний, острой точностью слова, горькой трагической нотой и какой-то непередаваемой пряностью. Я понял, что встретился с настоящей поэзией, что после Золотого века в русской поэзии и вправду был Серебряный. Там же я познакомился с поэзией Бальмонта, который увлёк меня музыкальностью и неумолкающей лиричностью. Я уже был знаком и с Брюсовым и, конечно, с Блоком, но восприятию их, особенно Блока, вредила советская школа, навязывающая свои убогие штампы. Тогда же, в 1956 году (или 57-м?) я прочёл в «Иностранной литературе» баллады Франсуа Вийона в переводе Эренбурга, и они навсегда остались со мной. Вообще я всю жизнь словно бы плачу долги своей юности, по сей день. Тогда же я начал собирать книги и горжусь своей библиотекой — моим прибежищем и другом в трудную минуту.
Между тем время шло. На следующий год я поступил в Библиотечный институт. А что было делать? В технические вузы я не пошёл бы под угрозой чего угодно, я совершенно был не способен к точным наукам, а гуманитарных вузов больше не было для меня. В педагогический институт имени Герцена я идти не хотел, не хотел стать педагогом, школа мне осточертела на всю оставшуюся жизнь. Но в библиотечном институте не было военной кафедры, и это мне через 4 года тяжко аукнулось.
Библиотечный институт был довольно скучным девичьим заведением. Правда, при выходе из гардероба на лестнице вас встречали мраморные юноша и девушка, но они куда-то пропали ещё в советские времена, видно, оскорбили высокий вкус кого-то из партийных начальников. Впрочем, пропавший без вести мраморный юноша ненамного увеличил бы наш куцый мужской контингент.
Но нет худа без добра — в институте было несколько очень хороших преподавателей. Древнерусскую литературу вёл Кононов. Я забыл многие имена и его имя-отчество в том числе. Но как он читал! У него было два образования — филологическое и театральное, и он изображал в лицах то Фролку Скобеева, то Ерша Ершовича. Это было чудно. С тех пор люблю всей душой русскую литературу средневековья, её мощный полнозвучный слог, её гулкий голос, жёсткую хитрецу и гневную настоятельность. Прекрасно читали свои курсы преподаватели зарубежной литературы и русского двадцатого века — Таманцев и Раскин.